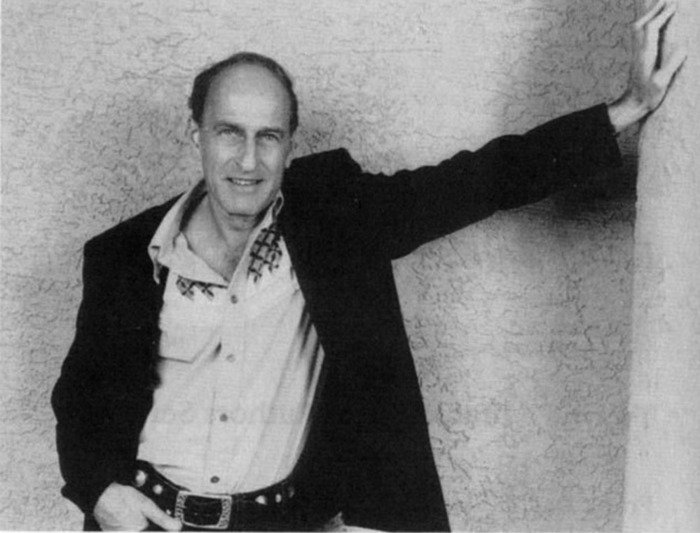Герой дня: Роджер Желязны
Писатели-фантасты для современного читателя – нечто вроде гитарных бардов для меломана, то есть своего рода нетоталитарная секта со всеми свойственными признаками. Впрочем, это не совсем так, и большую часть признаков стоит отнести скорее к фанам, а не к самим талантам, хотя и среди них встречаются определенного рода перцы. Но не в нашем случае.
…Его отцом и матерью были эмигранты – поляк и ирландка, потомки двух бунтарских и крепко пьющих народов. Отец подарил ему на одиннадцатилетие пишущую машинку, мать с малолетства пичкала волшебными сказками – а сказки у ирландцев заковыристые и отнюдь не вегетарианские. Мальчиком он сочинял свои истории и стихи – и даже публиковал их. Но трезво размышляя, он понимал, что писательским ремеслом не прокормишься – ну если ты не попал в струю или… Не очень понимая, что такое “или”, он решил не забивать себе голову и принялся за учебу. Колледж, университет, служба в Национальной Гвардии, потому снова учеба, бакалавриат, а в свободное время – фехтование, восточные единоборства, дзен-буддизм, шахматы, хинди и японский. У потомка ирландки и поляка хватало на все это и сил, и времени.
Первые 20 баксов – гонорар за рассказ – он получил в 1962-м. К 1969-му его уже считали надеждой американской фантастики (в 1964-м он получил номинацию на премию “Хьюго”, в 1966-м – премию “Небьюла” аж в двух номинациях).
Это была фантастика иного свойства, она перешагивала через “золотой век”, через Азимова и Шекли
Она говорила парадоксами, она замешивала рыцарей, компьютеры, шумерскую мифологию и нью-йоркских бомжей. Но все эти миксы из варева были не самоцелью: устами Желязны и его современников (Фармера, Дика, Силверберга, Дилэни, Эллисона) заговорили люди, которые, по сути, до того были на периферии внимания фантастов. Живые люди, небезупречные, похотливые, пьяные, карьеристы, проститутки, — психология, социальные проблемы, коммуникация стали во главу угла этих новых книг.
Оно, конечно, было хорошо, но Желязны и его семье надо было что-то есть, и потому он решил пойти на компромисс с музой – разумный, надо сказать, компромисс, не стыдный. Он решил написать цикл романов. Популярных, легких, незамороченных. Чтобы жить на гонорары с них – и писать то, что на самом деле бьется чуть пониже горла, в самом верху грудной клетки.
Вообще это, конечно, поехать головой: цикл романов. Тут за один-то сил не хватит взяться. И тем не менее в 1970-м вышли в свет “Девять принцев Амбера”, в 1972-м — “Ружья Авалона” — и понеслась…
Янтарный мир, населенный диковатыми, взбалмошными и боевитыми аристократами полюбился публике. Удача была поймана за хвост
В общем, пацан сказал – пацан сделал.Желязны стал финансово независим – и на самом деле продолжал писать настоящее. Впрочем, и “Амбер” вполне себе литература – но только “Двадцать четыре вида на Фудзи кисти Хокусая” гораздо больше. Он продолжал писать стихи, писал вместе с коллегами, писал парадоксальные, полные невероятных образов книги. Странно, но его почти не экранизировали – один полнометражный фильм (“Долина проклятий”) и один эпизод в сериале “Сумеречная зона”, да еще была смутная история, в которой под видом киношников, якобы экранизировавших великолепный роман “Князь Света”, в Иран отправились агенты ЦРУ, чтобы спасти шестерых американцев, прятавшихся от исламской революции в канадском посольстве. Вот вы небось смотрите “Игру престолов” — так я вот что скажу: ваш Мартин нашему Роджеру спичку бы подносил. Возьмись толковые люди за “Амбер” — курить бы Мартину у поленницы. Но не взялись.
…В 1993-м он написал одну из лучших своих книг, печальную сказку “Ночь в тоскливом октябре, в которой сталкивались Шерлок Холмс, Джек-потрошитель, доктор Франкенштейн, Дракула и прочие герои мистических и криминальных историй, речь велась от лица сторожевого пса, было много крови и страшных ритуалов, но все кончалось хорошо. Книга оказалась последним романом, который Желязны написал самостоятельно. А еще одна книга, “Доннерджек”, была дописана после смерти Роджера его последней любовью, бывшей поклонницей Джейн Линскольд, и это была пророческая книга о том, что может случиться, если глобальная виртуальная сеть взбунтуется и перейдет на режим самостоятельного существования, независимый от человека. Она заметно слабее прочих книг Роджера – и тем не менее это Книга, поперек которой не попрешь. И даже в ней главнее любой виртуальности – человек, который, что говорить, куда интересней и неисчерпаемей любого придуманного инопланетника.
Он умер в 1995-м, и прах его развеяли над горами. "Янтарный цикл" переиздают и читают снова и снова, а от него уж лежит дорожка к другим книжкам Роджера Желязны — “Кошачьим взглядом”, “Джеку-из-Тени”, “Этот бессмертный” — человека, который обладал добрым сердцем, неукротимым нравом, математическим мозгом, талантом, силами и упорством. А что он не удержался по эту сторону мира – так это ничего, почти все мы скатываемся туда, где неизвестно что нас ждет.
Об этом, кстати, Желязны тоже писал – и не раз.
 Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят
Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят
 7 забытых русских гениев
7 забытых русских гениев
 6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир
6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир
 Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре
Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре
 Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна
Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна
 Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм
Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм