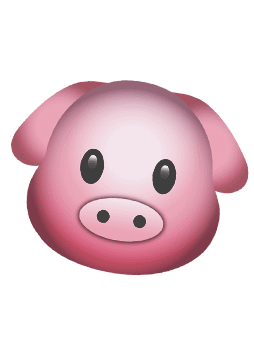Наедине с гением: современное интервью с Владимиром Маяковским
Побеседовав с Довлатовым, мы решили немного вернуться к началу 20 века и разговорить одну из самых ярких фигур этого периода в нашей истории — Владимира Маяковского. Как обычно ответы на вопросы мы старались найти в записях и задокументированных высказываниях автора.
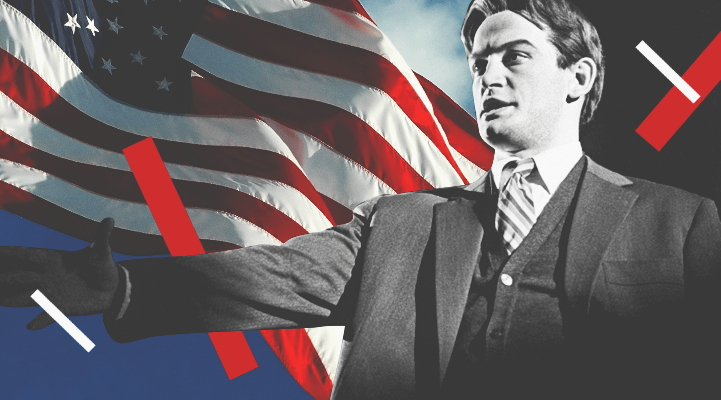
— На белогвардейскую эмиграцию доллар действует особенно разлагающе. Члены бывшей царской фамилии, приезжающие в Америку, немедленно «берутся в работу» деловыми американскими антрепренерами. Так, бывший великий князь Борис за умеренную плату описывает в нью-йоркских газетах свои кутежи и пьянство былого времени, даже с фотомонтажем! — цари на фоне игорных притонов; а «императрица всероссийская», жена Кирилла Владимировича, которую американцы называют «Мадам С’рил», занималась еще более легкой халтуркой: за плату от 10 до 50 долларов каждый американец имел возможность посмотреть, а если дороже заплатить, то и поздороваться и поцеловать руку и даже сказать несколько слов с «Мадам С’рил».
— О Соединенных Штатах принято говорить как о самой трезвой стране. Что касается трезвости, она в Америке очень условна. Если пошептаться с лакеем — вы получите все, что угодно, от виски до шампанского. Тайная торговля водкой распространена в Соединенных Штатах чрезвычайно широко. На каждые 500 человек приблизительно приходится один такой тайный торговец «бутлегер».
— Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т. е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».
Почему американцами считать этих, а не негров, например? Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс, и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например, «Opportunity». Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.
— Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. […] Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за их живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь — они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней в день режет каждый — хвастался боенский провожатый.
— В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь [из Ку-Клукс-Клана] убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.
— Тот, кто никогда не был в так называемой «провинции», плохо сейчас себе эту провинцию представляет. Тот, кто был в этой провинции до революции, — не представляет ее совсем. Прежде всего самое название «провинция» дико устарело. Архаический язык еще склонен называть провинцией даже такие города, как Минск, Казань, Симферополь, а эти города, волей революции ставшие столицами, растут, строятся, а главное, дышат самостоятельной культурой своей освобожденной страны.
Мне, по моей разъездной специальности чтеца стихов и лектора литературы, нагляднее и виднее этот рост. За последние два месяца я выступал около 40 раз по разным городам Союза. Первое впечатление — аудитория круто изменилась. Раньше редкий город мог бы выдержать более, чем один литературный вечер. И аудитория — прежде густые, потом битые сливки города. Расходились задолго до окончания, чтобы не обменяли их ботики и шубы. Расстанешься после вечера и больше никогда и никого не видишь, разве что у зубного врача на приеме.

— Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому не понятные, ничего не выражающие уже фразы: «проходит красной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д. — до бесконечности. Этими образами пишущий хочет достигнуть высшей образности — достигается только непонятность. На одной московской лестнице я видел надпись одного такого писателя: «Воспрещается не выпускать собак». Для усиления впечатления «писатель» поставил рядом с «воспрещается» еще и «не выпускать». Получилось не усиление впечатления, а наоборот: по точному смыслу этого приказа каждый должен был бы бешено гнать собак на лестницу.
[из разговора с проводницей]
— В вагоне, — продолжал я, повышая голос и теряя самообладание, — ко мне человечка посадили, маленький, а копун, утром полчаса одевается. Я ему говорю: чего возитесь? Это мне трудно одеваться, а вам что — брючки у вас крохотные!
Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо:
— Оставьте насчет штанов и их снимания, я член профсоюза, — сказала и вышла, хлопнув дверью.
— Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли». Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей. Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем — Блок в своей поэзии не выбрал.
— Пора знать, что для нас «быть Европой» — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово, а напряжение собственных сил в той же мере, в какой это делается там!
— Надо разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве. Эта старая сказка возникает сейчас в новом виде под прикрытием болтовни о «широких эпических полотнах» (сначала эпический, потом объективный и, наконец, беспартийный), о большом стиле (сначала большой, потом возвышенный и, наконец, небесный) и т. д. и т. д.
— Если бы сейчас явился со своими картинами какой-нибудь старый-старый живописец, ну хотя б Верещагин, и на вопрос: «А есть ли что у вас предъявить?» — достал свой «Апофеоз войны», черепа на голом поле, ему бы прямо сказали: «Мы понимаем, вы полны самых гражданских чувств, война ужасная вещь, но позвольте, какое же отношение это имеет к живописи? Вопрос о войне решат значительно лучше люди, специально поставленные к этому занятию, люди, занимающиеся общественными науками». Проповедование высоких идей, «мораль» в картине отняли у живописцев. […] Какова же физиономия сегодняшнего дня? Вульгарный реализм.
— Для вас кино — зрелище. Для меня — почти миросозерцание.
— Но — кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетцами. Этому должен быть конец. […]
Пользуюсь случаем при разговоре о кино еще раз всяческим образом протестовать против инсценировок Ленина через разных похожих Никандровых. Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за всей этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него. Мы хотим видеть на экране не игру актера на тему Ленина, а самого Ленина, который хотя бы в немногих кадрах, но все же смотрит на нас с кинематографического полотна. Это — ценный облик нашего кинематографа. Давайте хронику!
— Кинематограф только вытесняет рядовых актеров сцены, неся с собою хоть и копию, но с больших моментов творчества. Сведя же деятельность сегодняшнего театра к машинному производству, простому и дешевому, кинематограф заставит подумать о театре завтрашнего дня, о новом искусстве актера. Это — культурная роль кинематографа в общей истории искусства.

— Надо звать, надо рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть! Вспоминается европейская реклама. Например, какая-то фирма рекламирует замечательные резины для подтяжек: в Ганновере человек торопится на берлинский поезд и не заметил, как в вокзальной уборной зацепился за гвоздь подтяжками. Доехал до Берлина, вылез — бац, и он опять в Ганновере, его притянули обратно подтяжки. Вот это реклама! Такую не забудешь.
Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь, — хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама — это имя вещи. Как хороший художник создает себе имя, так создает себе имя и вещь. Увидев на обложке журнала «знаменитое» имя, останавливаются купить. Будь та же вещь без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто прошли бы мимо. Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи.
— Поэзия — производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство. Обучение поэтической работе — это не изучение изготовления определенного, ограниченного типа поэтических вещей, а изучение способов всякой поэтической работы, изучение производственных навыков, помогающих создавать новые.
— Пора показать, что поэты не хорошенькие бабочки, созданные к удовольствию «полезных» обывателей, а завоеватели, имеющие силу диктовать вам свою волю. Конечно, то, что вы считаете за поэзию — на толстой странице богатенького журнальчика пляшущий в коротенькой юбочке Бальмонт, — надо в военное время запрещать, как шантан и продажу спиртных напитков. Я говорю о поэзии, которая, вылившись подъемом марша, необходима солдату, как сапог, — о той, которая, приучив нас любить мятеж и жестокость, правит снарядом артиллериста.
— Я — нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие. Я — циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно в дессертную тарелку. Я — извозчик, которого стоит впустить в гостиную — и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словища этой мало приспособленной к салонной диалектике профессии. Я — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя…
 Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят
Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят
 7 забытых русских гениев
7 забытых русских гениев
 6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир
6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир
 Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре
Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре
 Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна
Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна
 Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм
Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм